Гузель Яхина
Эшелон на Самарканд
(фрагмент)
I. Пять сотен
Казань
Четыре тысячи верст — ровно столько предстояло пройти санитарному поезду Казанской железной дороги до Туркестана. Но самого поезда еще не было — приказ о его формировании был подписан вчера, девятого октября двадцать третьего года. И пассажиров не было — их предстояло собрать по детским домам и приемникам: девочек и мальчиков, от двух до двенадцати, самых слабых и истощенных. А вот начальник у эшелона уже был: фронтовик Гражданской, из молодых, — Деев. Назначен только что.
— Дети, — сказал ему вместо приветствия командир транспортного отдела Чаянов. — Пятьсот душ. Доставить из Казани до Самарканда. Мандат и инструкции получишь у секретаря.
За годы в транспортном Деев сопровождал все, что могло передвигаться по рельсам, — от реквизированного зерна и скота до китового жира в цистернах, присланного дружественной Норвегией голодающему Поволжью. Детей однако — не приходилось.
— Когда выезжать?
— Хоть завтра. Соберешь состав — и лети, Деев, птицей лети! Дети — они долгой дороги не любят, скоро сам поймешь.
Вот и весь разговор — пара минут, не больше. Неясно лишь: что значило это странное "сам поймешь"? Но раздумывать было некогда. Долгие раздумья — для стариков, у них времени много.
Первым делом отправился к вокзальному начальству. Те обещали поскрести по сусекам и наскребли всего один вагон, зато — бывшего первого класса, некогда благородно-синего, а нынче уже бледно-серого цвета, с гобеленовой, лишь местами рваной обивкой салона, почти целыми зеркалами и просторным общим холлом, где при желании можно было вальсировать. Когда-то там располагалась дорожная библиотека и даже был установлен рояль, а теперь красовалась щербатая чугунная ванна (видно, перетащили из банно-прачечного отсека, да так и позабыли здесь). Смотрелась она в окружении пустых книжных полок и почерневших канделябров нелепо. Поморщился Деев, но вагон взял. Гобелены велел содрать к чертовой матери, канделябры — сбить. В купе вместо элегантных багажных сеток надстроить вторым и третьим ярусом нары. А ванну — оставить. Пробовал было затребовать к ней и печку-чугунку, чтобы детям было где согреть воду для мытья, но был обозван буржуем и идею с горячим водоснабжением отложил на потом.
— Дети, — сказал ему вместо приветствия командир транспортного отдела Чаянов. — Пятьсот душ. Доставить из Казани до Самарканда. Мандат и инструкции получишь у секретаря.
За годы в транспортном Деев сопровождал все, что могло передвигаться по рельсам, — от реквизированного зерна и скота до китового жира в цистернах, присланного дружественной Норвегией голодающему Поволжью. Детей однако — не приходилось.
— Когда выезжать?
— Хоть завтра. Соберешь состав — и лети, Деев, птицей лети! Дети — они долгой дороги не любят, скоро сам поймешь.
Вот и весь разговор — пара минут, не больше. Неясно лишь: что значило это странное "сам поймешь"? Но раздумывать было некогда. Долгие раздумья — для стариков, у них времени много.
Первым делом отправился к вокзальному начальству. Те обещали поскрести по сусекам и наскребли всего один вагон, зато — бывшего первого класса, некогда благородно-синего, а нынче уже бледно-серого цвета, с гобеленовой, лишь местами рваной обивкой салона, почти целыми зеркалами и просторным общим холлом, где при желании можно было вальсировать. Когда-то там располагалась дорожная библиотека и даже был установлен рояль, а теперь красовалась щербатая чугунная ванна (видно, перетащили из банно-прачечного отсека, да так и позабыли здесь). Смотрелась она в окружении пустых книжных полок и почерневших канделябров нелепо. Поморщился Деев, но вагон взял. Гобелены велел содрать к чертовой матери, канделябры — сбить. В купе вместо элегантных багажных сеток надстроить вторым и третьим ярусом нары. А ванну — оставить. Пробовал было затребовать к ней и печку-чугунку, чтобы детям было где согреть воду для мытья, но был обозван буржуем и идею с горячим водоснабжением отложил на потом.
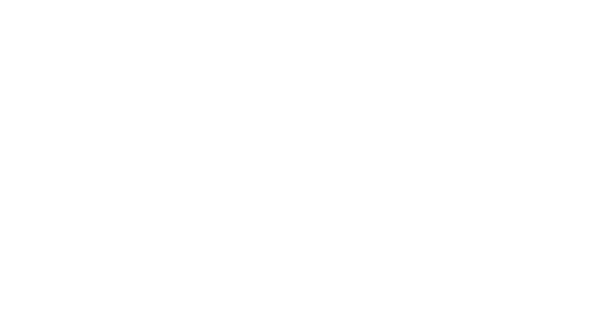
Второй вагон пришлось ждать до завтра: пригнали с Красной Горки, где он стоял четыре года на задворках паровозного депо. Посмотрел на добычу Деев и аж передернулся: не простой это был вагон, а путевая церковь. Видно, потому и пылился так долго в отстойнике, что приспособить его под какие бы то ни было советские нужды затруднялись. Позеленелую бронзу с купола можно было, поло- жим, снять, алтарь разобрать. А арочные окна под красными бровками куда денешь? А кокошники под крышей?.. Принял Деев и этот вагон. Одна радость: вместительный.
"Во сколько рядов лавки городить будем?" — спросил башкан плотницкой артели, уважительно разглядывая высоченный потолок. "Давай в три!" — махнул рукой Деев. Пожалуй, влезли бы и все четыре, но карабкаться на самую верхотуру дети могли побояться.
Вагон-кухню прислали пару суток спустя, из-под Симбирска, — кургузую коробчонку на колесах, сбитую наспех из струганых досок и позже чиненную нестругаными, в заплатах из фанеры, с торчащей из слухового окна загогулиной печной трубы. Говорили, в симбирских тупиках еще с девятнадцатого года стояло много такого барахла, и что-то вполне могло сгодиться Дееву, но ехать туда с проверкой было недосуг.
Наконец, расформировали пришедший из Москвы пассажирский и пяток вагонов подогнали к деевскому эшелону, который путевые рабочие уже называли между собой "гирляндой" за разнообразие цветов и мастей. Вагоны — сплошь плацкартные, прокуренные и запакощенные насмерть — нуждались не в плотниках, а в обстоятельной уборке. Но Деев к тому времени так замучил вокзальное начальство требованиями (да всё "немедля!", "тот же час!" и "непременно!"), что в уборщиках ему отказали. Плюнул он, набрал пару ведер воды и принялся отмывать сам.
Тут-то она и появилась. Деев как раз пластался по мокрому полу, тряпкой выуживая из-под лавки груду семечковой шелухи, — а у самого его лица возникли два тупоносых пехотных ботинка. Поднял глаза выше: икры, тонкие, не в солдатских обмотках — в нежной чулочной шерсти.
— Убийца, — так начала разговор. — Почему канителитесь?
Опешил Деев. Еще выше глаза поднимает: юбка черная, узкая, а под сукном юбочным — острые колени.
— Пока вы тут пузом по полу елозите, умирают дети. Он попытался вылезти из-под лавки и сесть — тюкнулся затылком о лавочный край.
— Ты кто? — Перед женщинами Деев робел и оттого называл их исключительно на "ты", а себя держал гордо, с вызовом.
"Во сколько рядов лавки городить будем?" — спросил башкан плотницкой артели, уважительно разглядывая высоченный потолок. "Давай в три!" — махнул рукой Деев. Пожалуй, влезли бы и все четыре, но карабкаться на самую верхотуру дети могли побояться.
Вагон-кухню прислали пару суток спустя, из-под Симбирска, — кургузую коробчонку на колесах, сбитую наспех из струганых досок и позже чиненную нестругаными, в заплатах из фанеры, с торчащей из слухового окна загогулиной печной трубы. Говорили, в симбирских тупиках еще с девятнадцатого года стояло много такого барахла, и что-то вполне могло сгодиться Дееву, но ехать туда с проверкой было недосуг.
Наконец, расформировали пришедший из Москвы пассажирский и пяток вагонов подогнали к деевскому эшелону, который путевые рабочие уже называли между собой "гирляндой" за разнообразие цветов и мастей. Вагоны — сплошь плацкартные, прокуренные и запакощенные насмерть — нуждались не в плотниках, а в обстоятельной уборке. Но Деев к тому времени так замучил вокзальное начальство требованиями (да всё "немедля!", "тот же час!" и "непременно!"), что в уборщиках ему отказали. Плюнул он, набрал пару ведер воды и принялся отмывать сам.
Тут-то она и появилась. Деев как раз пластался по мокрому полу, тряпкой выуживая из-под лавки груду семечковой шелухи, — а у самого его лица возникли два тупоносых пехотных ботинка. Поднял глаза выше: икры, тонкие, не в солдатских обмотках — в нежной чулочной шерсти.
— Убийца, — так начала разговор. — Почему канителитесь?
Опешил Деев. Еще выше глаза поднимает: юбка черная, узкая, а под сукном юбочным — острые колени.
— Пока вы тут пузом по полу елозите, умирают дети. Он попытался вылезти из-под лавки и сесть — тюкнулся затылком о лавочный край.
— Ты кто? — Перед женщинами Деев робел и оттого называл их исключительно на "ты", а себя держал гордо, с вызовом.
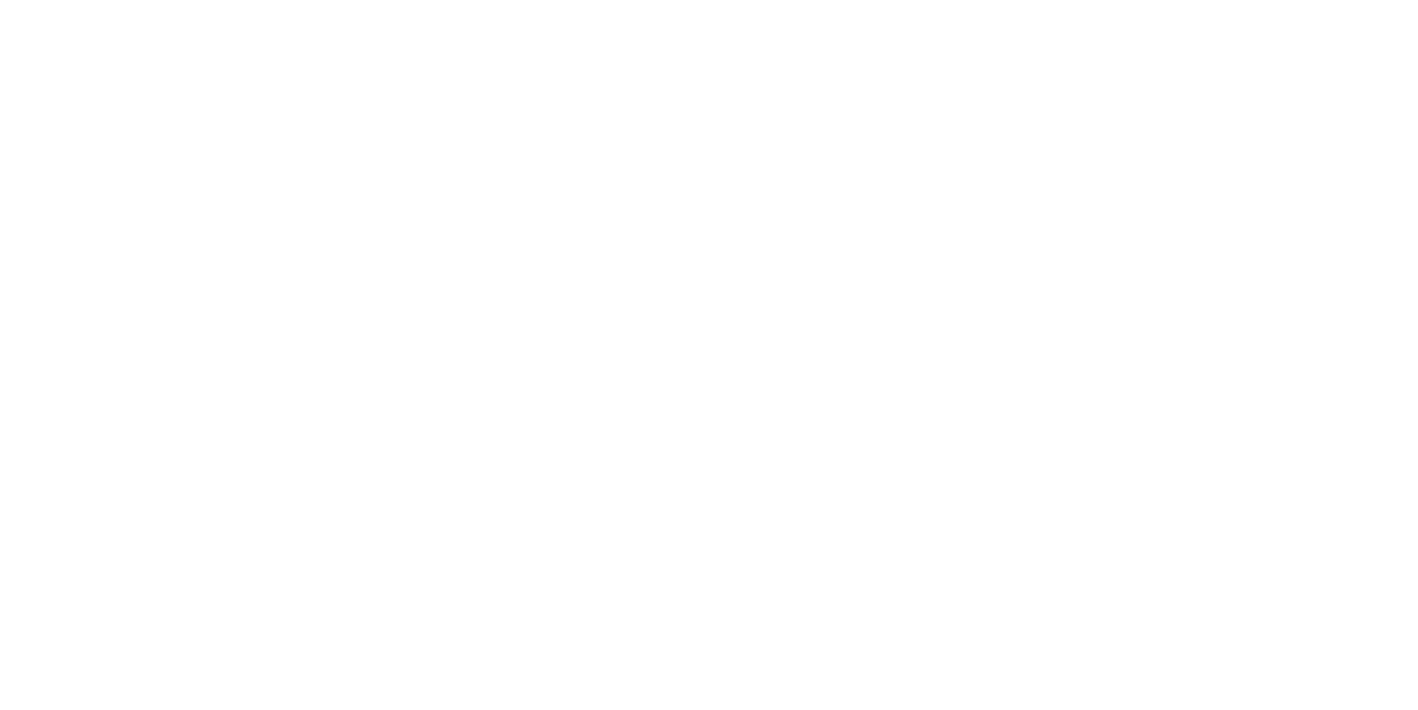
— Детский комиссар. Поеду с вами до Самарканда, если соизволите встать из лужи и приступить к выполнению приказа.
— Имя-то у тебя есть, комиссар? — Белая.
Деев так и не понял, имя это или фамилия. Переспрашивать не решился.
Была она старше его, но не так чтобы в матери годилась. Скорее, в старшие сестры. Лицо имела красивое и строгое, хоть сейчас на плакат. Волосы — русые, коротко стриженные, кудрями во все стороны. А взор — начальственный, как у армейского командира. Под таким взглядом хотелось немедля вскочить и оправиться, но сдержался: не спеша пригладил чубчик (заодно смахнул со лба пару приставших подсолнечных шкурок), небрежно кинул тряпку в ведро (вода плеснулась через край и брызнула комиссару на ботинки) — да и остался на полу сидеть, эдак чуть развалясь.
— Тогда, может, с уборкой подсобишь, товарищ Белая? Или в хлеву повезем народ?
— Подсоблю, — ответила серьезно. — Только ночью, когда дети спать будут.
— А мы с тобой, выходит, не будем? — снахальничал Деев. И не хотел вовсе дерзить, да язык-дура ляпнул сам.
И тут же стыдно стало за нелепую эту сальность. Поднялся, отряхнул грязь с закатанных штанов и голых коленей. А когда распрямился — понял, что смотрит на гостью снизу вверх: комиссар Белая была выше на целых полголовы.
— Боюсь, Деев, спать нам не придется, — сказала, глядя в упор, и он рассмотрел наконец ее глаза — холодно- серые, в прямых ресницах. — До самого Самарканда — не придется.
— Имя-то у тебя есть, комиссар? — Белая.
Деев так и не понял, имя это или фамилия. Переспрашивать не решился.
Была она старше его, но не так чтобы в матери годилась. Скорее, в старшие сестры. Лицо имела красивое и строгое, хоть сейчас на плакат. Волосы — русые, коротко стриженные, кудрями во все стороны. А взор — начальственный, как у армейского командира. Под таким взглядом хотелось немедля вскочить и оправиться, но сдержался: не спеша пригладил чубчик (заодно смахнул со лба пару приставших подсолнечных шкурок), небрежно кинул тряпку в ведро (вода плеснулась через край и брызнула комиссару на ботинки) — да и остался на полу сидеть, эдак чуть развалясь.
— Тогда, может, с уборкой подсобишь, товарищ Белая? Или в хлеву повезем народ?
— Подсоблю, — ответила серьезно. — Только ночью, когда дети спать будут.
— А мы с тобой, выходит, не будем? — снахальничал Деев. И не хотел вовсе дерзить, да язык-дура ляпнул сам.
И тут же стыдно стало за нелепую эту сальность. Поднялся, отряхнул грязь с закатанных штанов и голых коленей. А когда распрямился — понял, что смотрит на гостью снизу вверх: комиссар Белая была выше на целых полголовы.
— Боюсь, Деев, спать нам не придется, — сказала, глядя в упор, и он рассмотрел наконец ее глаза — холодно- серые, в прямых ресницах. — До самого Самарканда — не придется.
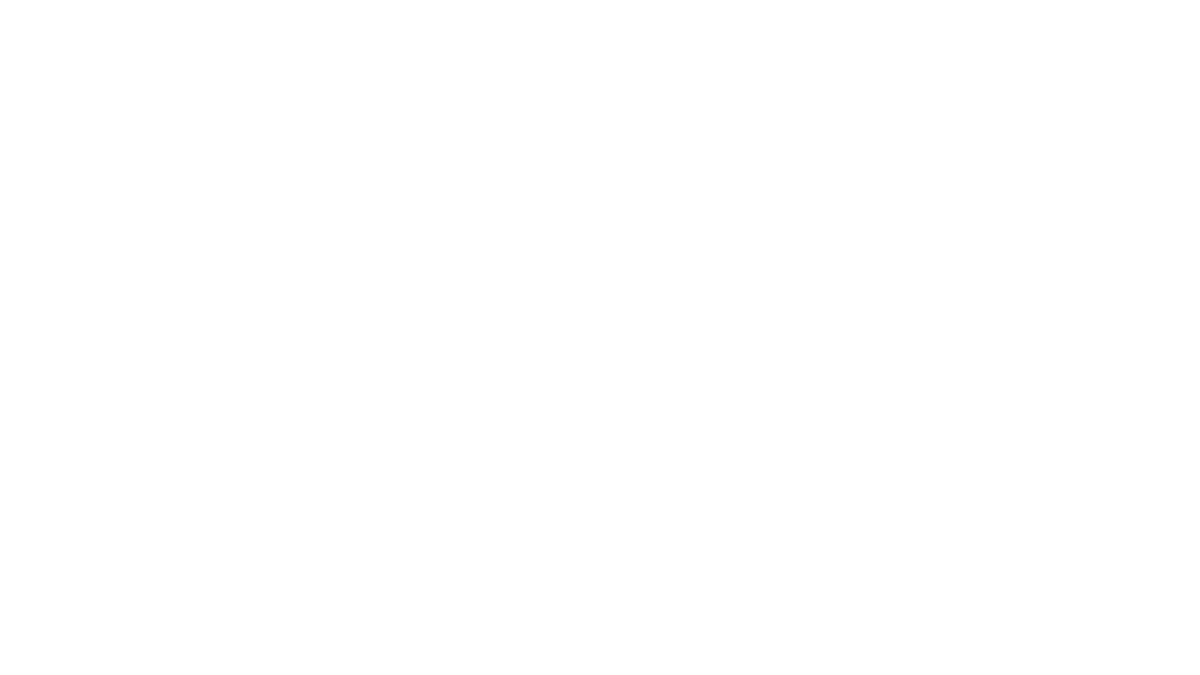
YuriyS / GettyImages
Пару минут спустя он уже шагал рядом с Белой. Даже не шагал — строчил торопливо по мокрым от сеющего дождя путям, изо всех сил стараясь не поскользнуться и не пуститься бегом.
Она ступала широко, через шпалу, даром что ноги имела по-девичьи тонкие, а фигуру легкую, едва различимую под широкими складками бушлата, прихваченного в талии ремнем. Деев наблюдал стремительный ход ее квадратных башмаков и думал о том, что под ними непременно должны скрываться маленькие и узкие ступни. Споткнулся, чертыхнулся — отогнал неподобающую мысль.
—Они попробуют увеличить квоту — не соглашайтесь! — Белая говорила быстро, не трудясь повернуть голову к собеседнику, а словно стреляя фразами вперед, и ему пришлось ускорить шаг, чтобы расслышать указания. — Попробуют добавить больных под видом выздоравливающих — не соглашайтесь!
Деев никак не мог взять в толк, с кем ему не соглашаться. Иначе говоря, в кого так безжалостно стреляла словами комиссар?
— Начнут давить на жалость — валите все на меня. Так и скажите: мол, эта Белая такая принципиальная и бессердечная, не сговориться с ней никак, просто не человек, а камень...
— Но начальник-то эшелона я, — на всякий случай напомнил Деев.
— Начальник вы, — согласилась Белая. — А валите все на меня. А еще лучше молчите, я сама все скажу.
Она ступала широко, через шпалу, даром что ноги имела по-девичьи тонкие, а фигуру легкую, едва различимую под широкими складками бушлата, прихваченного в талии ремнем. Деев наблюдал стремительный ход ее квадратных башмаков и думал о том, что под ними непременно должны скрываться маленькие и узкие ступни. Споткнулся, чертыхнулся — отогнал неподобающую мысль.
—Они попробуют увеличить квоту — не соглашайтесь! — Белая говорила быстро, не трудясь повернуть голову к собеседнику, а словно стреляя фразами вперед, и ему пришлось ускорить шаг, чтобы расслышать указания. — Попробуют добавить больных под видом выздоравливающих — не соглашайтесь!
Деев никак не мог взять в толк, с кем ему не соглашаться. Иначе говоря, в кого так безжалостно стреляла словами комиссар?
— Начнут давить на жалость — валите все на меня. Так и скажите: мол, эта Белая такая принципиальная и бессердечная, не сговориться с ней никак, просто не человек, а камень...
— Но начальник-то эшелона я, — на всякий случай напомнил Деев.
— Начальник вы, — согласилась Белая. — А валите все на меня. А еще лучше молчите, я сама все скажу.
~
Эшелон на Самарканд
Уже в продаже
Эшелон на Самарканд
Уже в продаже
Поволжье — мой родной край. И Волга, и Казань — это часть меня.
Мне хотелось увлекательной формой, жанром приключения, помочь читателю двигаться через достаточно серьёзный, местами даже трагический материал.
Мне хотелось увлекательной формой, жанром приключения, помочь читателю двигаться через достаточно серьёзный, местами даже трагический материал.
Эшелон на Самарканд
Автор о романе
Поделиться в соцсетях